«Зовы и встречи»

13 июля 1944 года отошел ко Господу философ, богослов, устроитель братской и общинной церковной жизни, основатель Свято-Сергиевского богословского института, сумевший собрать в эмиграции весь цвет религиозно-философской мысли, протоиерей Сергий Булгаков. Сегодня мы публикуем автобиографический рассказ отца Сергия о том, как он неожиданным и чудесным образом после десяти лет безбожия вдруг обрел Бога.
Мне шел 24-й год, но уже почти десять лет в душе моей подорвана была вера, и после бурных кризисов и сомнений в ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу, погасла самая возможность сомнений, и от светлого детства оставались лишь поэтические грезы, нежная дымка воспоминаний, всегда готовая растаять. О, как страшен этот сон души, ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь! Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки, по мере того как все более потухал свет детства. И тогда неожиданно пришло то... Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу...
Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние Кавказские горы. Впервые видел я их. И, вперяя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской; помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: а если есть... если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь... Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость... А если... если мои детские, святые чувства, когда я жил с Ним, ходил перед лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь. Но разве это возможно, разве не знаю я еще с семинарии, что Бога нет, разве вообще об этом может быть разговор, могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха перед «научностью» и ее синедрионом? О, я был как в тисках в плену у «научности», этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков. Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей. И сам я был тогда зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу... Закат догорел. Стемнело. И то погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись,– от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось... И Бог отошел. Я скоро забыл о прихотливом настроении степного вечера. И после этого стал опять мелок, гадок и пошл, как редко бывал в жизни.
Но вскоре опять то заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа! Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей, в небо вонзались эти пики, и душа моя истаивала от восторга. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело, сплетаясь в торжественном, дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное, неподвижное днесь. Ныне отпущаеши звучало в душе и в природе. И нежданное чувство ширилось и крепло в душе: победы над смертью. Хотелось в эту минуту умереть, душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно изойти в то, что высилось, искрилось и сияло красотой первоздания. Но не было слов, не было Имени, не было «Христос Воскресе!», воспетого миру и горным высям. Царило безмерное и властное Оно, и это «Оно» фактом бытия своего, откровением своим испепеляло в этот миг все преграды, все карточные домики моей «научности». И не умер в душе миг свидания, этот ее апокалипсис, брачный пир, первая встреча с Софией. Я не знал и не понимал тогда, что сулила мне эта встреча. Жизнь дала новый поворот, апокалипсис стал превращаться во впечатления туриста, и тонкой пленкой затягивалось пережитое. Но то, о чем говорили мне в торжественном сиянии горы, вскоре снова узнал я в робком и тихом девичьем взоре, у иных берегов, под иными горами. Тот же свет светился в доверчивых, испуганных и кротких, полудетских глазах, полных святыни страдания. Откровения любви говорили о ином мире, мною утраченном.Пришла новая волна упоения миром. Вместе с «личным счастьем» первая встреча с «Западом» и первые пред ним восторги: «культурность», комфорт, социал-демократия... И вдруг неожиданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца и затрепетало оно от Твоего зова.
Проездом спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger с знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности,— знание страдания и готовность на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что они обречены, и вольно грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она «принять орудие в сердце», Он – Голгофу... Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо... Я (тогда марксист) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез...
Я возвратился на родину из заграницы потерявшим почву и уже с надломленной верой в свои идеалы. Земля ползла подо мной неудержимо. Я упорно работал головой, ставя «проблему» за «проблемой», но внутренне мне становилось уже нечем верить, нечем жить, нечем любить. Мною владела мрачная герценовская резиньяция... Но чем больше изменяли мне все новые боги, тем явственнее подымались в душе как будто забытые чувства: словно небесные звуки только и ждали, когда даст трещину духовная темница, мною самим себе созданная, чтобы ворваться к задыхающемуся узнику с вестью об освобождении. Во всех моих теоретических исканиях и сомнениях теперь все явственнее звучал мне один мотив, одна затаенная надежда – вопрос: а если. И то, что загорелось в душе впервые со дней Кавказа, все становилось властнее и ярче, а главное – определеннее: мне нужна была не «философская идея Божества», а живая вера в Бога, во Христа и Церковь. Если правда, что есть Бог, значит, правда все то, что было мне дано в детстве, но что я оставил. Таков был полусознательный религиозный силлогизм, который делала душа: ничего или... все, все до последней свечечки, до последнего образка... И безостановочно шла работа души, незримая миру и неясная мне самому. Памятно, как бывало на зимней московской улице, на людной площади,– вдруг загорался в душе чудесный пламень веры, сердце билось, глаза застилали слезы радости. В душе зрела «воля к вере», решимость совершить наконец безумный для мудрости мира прыжок на другой берег, «от марксизма» и всяческих следовавших за ним измов к... православию. О да, это, конечно, скачок, к счастью и радости, между обоими берегами лежит пропасть, надо прыгать. Если придется потом для себя и для других «теоретически» оправдывать и осмысливать этот прыжок, потребуется много лет упорного труда в разных областях мысли и знания, и всего этого будет мало, недостаточно. А для того, чтобы жизненно уверовать, опытно воспринять то, что входит в Православие, вернуться к его «практике», нужно было совершить еще долгий, долгий путь, преодолеть в себе многое, что налипло к душе за годы блужданий. Все это я отлично сознавал, не теряя трезвости ни на минуту. И тем не менее в сущности вопрос был уже решен: с того берега смотрел я на предстоящий мне путь, и радостно было сознавать это. Как это совершилось, и когда,– кто скажет. Кто скажет, как и когда зарождается в душе любовь и дарит ей свое прозрение. Но с некоторого времени я со всею уверенностью узнал, что это уже совершилось. И от того времени протянулась золотая цепь в душе. Однако шли годы, а я все еще томился за оградой и не находил в себе сил сделать решительный шаг – приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в Чистый Четверг, зайдя в храм, увидел я (тогда «депутат») причащающихся под волнующие звуки: «Вечери Твоея тайныя»... Я в слезах бросился вон из храма и плача шел по московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. И так продолжалось до тех пор, пока меня не восторгла крепкая рука...
Осень. Уединенная, затерянная в лесу пустынь. Солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила. Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы «для готовящихся к исповеди», я почти выбежал из церкви, «изшед вон, плакася горько». В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице и опомнился... в келье у старца. Меня туда привело: я пошел совсем в другом направлении, вследствие своей всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в действительности – я знал это тогда достоверно – со мной случилось чудо... Отец, увидев приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие, как капля перед океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня в растерянности оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. «Господь прошел»,— умиленно говорил он потом... И вот вечер, и опять солнечный закат, но уже не южный, а северный. В прозрачном воздухе резко вырисовываются церковные главы, и длинными рядами белеют осенние монастырские цветы. В синеющую даль уходят грядами леса. Вдруг среди этой тишины, откуда-то сверху, словно с неба, прокатился удар церковного колокола, затем все смолкло, и лишь несколько спустя он зазвучал ровно и непрерывно. Звонили ко всенощной. Словно впервые, как новорожденный, слушал я благовест, трепетно чувствуя, что и меня зовет он в церковь верующих. И в этот вечер благодатного дня, а еще более на следующий, за литургией, на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом реально соучаствую: и для меня и за меня висел на древе Господь и пролиял пречистую Кровь Свою, и для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза, и меня касается это Евангелие, в котором рассказывается о вечери в доме Симона прокаженного и о прощении много возлюбившей жены-блудницы, и мне дано было вкусить святейшего Тела и Крови Господа моего...
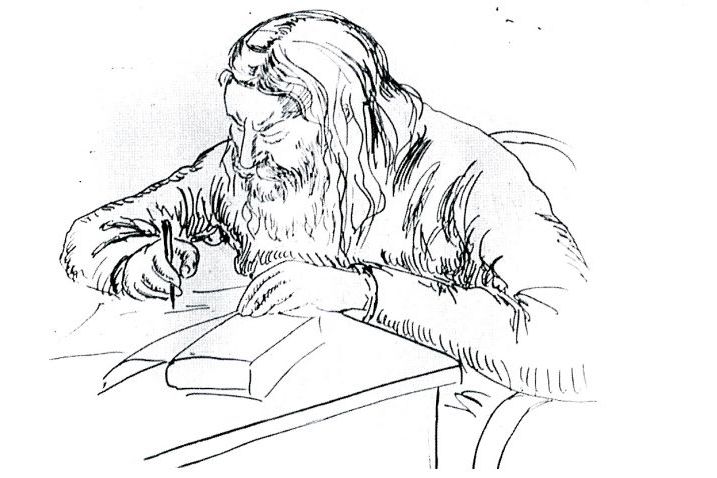
Прот. Сергий Булгаков. Автобиографические заметки. Париж, 1946.
Фото с сайта http://fns.unifr.ch/