«Церковь имеет право оценивать жизнь как целое»

Преображенское братство выступило с инициативой церковного покаяния и возрождения. Её ключевые тезисы – в материалах «Стола».
Интервью духовного попечителя Преображенского братства отца Георгия Кочеткова в программе «Ещёнепознер» обострило дискуссию и о покаянии, и об образе церкви, стоящем за тезисами церковного покаяния и возрождения. Три члена братства и оргкомитета форума «Имеющие надежду» выступили с предложением последовательно раскрыть главные темы церковного покаяния и возрождения, а именно:
тему трудной памяти в церкви;
тему литургического возрождения;
тему мирян как Народа Божьего
— в надежде на развитие внутрицерковного диалога по каждому сюжету.
В качестве первого «Стол» публикует текст Юлии Балакшиной, председателя Свято-Петровского малого православного братства, посвящённый проблеме трудной памяти в РПЦ и церковно-государственным взаимоотношениям. Напоминаем, что один из тезисов церковного покаяния и возрождения призывает «отказаться от „сергианстваˮ и „обновленчестваˮ, то есть от всякой надежды на государство и политические силы, так как альянс церкви с любой мирской властью отдаёт её в рабство этим силам».
Покаяние – восстановление отношений
Первое, с чем мы сталкиваемся, когда говорим о покаянии – общества или церкви за своё трудное прошлое, – это множественность подходов к пониманию самого слова «покаяние». Так, например, философ Сергей Хоружий называл покаянием процесс нравственного самоотчета общества, необходимый после нравственных катастроф ХХ века. Постоянная смена этических парадигм, разрушение этических установок предыдущей эпохи привели к появлению «антиэтики» и «аэтики». В 90-е годы был шанс этот «нравственный самоотчет» произвести, как бы заново определить, что есть добро, а что – зло в нашем прошлом и настоящем. Не случайно так прогремел фильм Абуладзе «Покаяние». Но такой нравственный самоотчёт – не короткий эмоциональный рывок, а длительная внутренняя работа, сил на которую у общества не хватило. Для нас безусловно важен этот смысл слова «покаяние»; мы видим и ценим отдельных людей, которые приняли на себя этот труд общественного самосознания и поиска путей внутреннего освобождения от советского наследия.
Однако для нас – как людей церковных – также очень важна мысль, что покаяние способно стать актом коммуникативным, направленным на восстановление отношений. В первую очередь восстановление отношений с Богом, но не только: в ХХ веке разрушены были многие связи, включая связи людей и народов между собой, связи с родной землёй, за которую они призваны были отвечать. Мы знаем, что восстанавливает разрушенные связи акт прощения. Как и у кого просить этого прощения – каждый решает для себя. Это зависит от голоса совести, от «точки боли» внутри каждого человека.

Как должно быть выражено покаяние, способное восстановить отношения, – сложный духовно-личностный вопрос, ответом на который не может стать какой-то придуманный внешний ритуал. Покаяние может иметь внешние проявления и образы, но это не «радение», не акция в известном смысле этого слова. Для кого-то оно в первую очередь актуализируется в традиционных церковных формах поста и молитвы, для кого-то связано с конкретным действием, например, помощи тем, кто пострадал на нашей земле в ХХ веке. Молитва памяти, инициированная Преображенским братством, – тоже одна из возможных форм.
Переживать чужую боль как свою – это свободный выбор
Кто является субъектом такого покаяния? При ответе на этот вопрос часто происходит подмена: когда мы говорим, что сегодня можем каяться в преступлениях наших предков, нашего народа, часто возникает представление о коллективной вине. Как известно, коллективная вина – один из инструментов тоталитарного режима и – конкретно – сталинской политики: ты «враг народа» просто потому, что принадлежишь к определенному сословию/находишься в родственных связях с кем-то, принадлежишь к русскому, а не советскому народу и так далее. Важно, конечно, учитывать этот фон, но всё же кроме коллективной вины, которую внедряли в сознание масс Сталин и Гитлер, в нашем духовном опыте есть Достоевский. Для нас в нашем призыве принципиально важна интуиция Достоевского, выраженная в романе «Братья Карамазовы»: «Всякий пред всеми за всех и за всё виноват». Для Достоевского со-виновность – это не тотальная обязанность, марающая всех, а свободный призыв поступить по любви, разделить вину другого человека. И, конечно, на такой призыв может откликнуться только свободный человек.
Нужно различать вину и проступок, её выражающий
В Толковом словаре В.И. Даля, современника Достоевского, слово «вина» означает: «начало, причина, источник, повод, предлог». Поэтому нужно различать вину и проступок, её выражающий. Мы не совершали преступлений, в которых повинны наши предки, но разве свободны мы от того «корня», того «начала» зла, которое действовало в них? Мне понравился пример, который привел Евгений Водолазкин во время интернет-марафона «Молитва памяти» 30 октября этого года: если сегодня, видя нестроения и непорядок в государственной и общественной жизни, мы начинаем мечтать о «железной руке» – значит, в нас действует советский яд и нам есть в чём каяться. Сергей Сергеевич Аверинцев писал: «…Наша вина не только в том, что мы тогда-то сделали такой-то ужасный грех, нарушили такие-то правила, а что мы не такие. Мы не такие должны быть…».
Не будет лишним вспомнить и Карла Ясперса, который различал четыре типа вины: уголовную, политическую, моральную и метафизическую. Последняя связана с идеей солидарности всего человечества. Здесь вина понимается как духовный корень зла, имеющий свои ростки в каждом члене конкретного со-общества: церкви, народа, мира. Коллективная вина – нечто, навязываемое людям сверху как инструмент управления массами. Способность взять на себя вину другого человека, может быть, целого народа, с которым связан узами крови и любви, и принести за нее покаяние – это содержание внутреннего экзистенциального опыта человека.
Одно отличается от другого не только в вопросе целей, но и в вопросе методов. Призыв к покаянию несовместим с насилием, в том числе психологическим. Он несовместим с любым сознательным использованием страданий, столь обильно пережитых людьми в ХХ веке, для достижения неких «публичных эффектов» или аффектов. В нашей стране накоплен большой запас горя и страдания, его нужно выплакать, а жертв – оплакать. Но на нём нельзя «въезжать» в политику, зарабатывать себе «баллы» в «цивилизованном обществе», извлекать эстетический эффект и т.д. Конечно, и наш призыв к покаянию не гарантирован от перерождения в нечто внешнее, но, осознавая эту опасность, всякий, имеющий этот призыв в своём сердце, должен смотреть, какими путями идёт.
Я сознаю себя не как песчинка в груде песка и не как демонстрант в праздничной колонне, но как человек, соединённый живыми связями с друзьями, знакомыми, соседями, коллегами, со-родичами и со-отечественниками
Ещё одно различение, без которого призыв к покаянию трудно понять, – это различение между коллективным и соборным. Покаяние не может быть коллективным, но оно должно быть личностным и соборным. А это значит, что я сознаю себя не как песчинка в груде песка и не как демонстрант в праздничной колонне, но как человек, соединённый живыми связями с друзьями, знакомыми, соседями, коллегами, со-родичами и со-отечественниками. Очевидно, что отсутствие понимания, как возможно соборное покаяние, объясняется тем, что в стране почти нет реальных сообществ, нет тех многообразных неформальных связей, которые делают народ народом. Нет переживания (совершенно естественного, например, для русской литературы), что люди реально связаны друг с другом. Увы, даже в церкви его нет! Я не думаю, что здесь что-то можно доказать. Можно только показать: если мы живём вместе, мы чувствуем свою ответственность друг за друга. Я надеюсь, что это чувство взаимной связности восстанавливается хотя бы на уровне корпораций: скажем, иногда журналистам или, например, врачам хочется защитить какого-то своего коллегу, а иногда – за кого-то из «цеха» бывает стыдно.
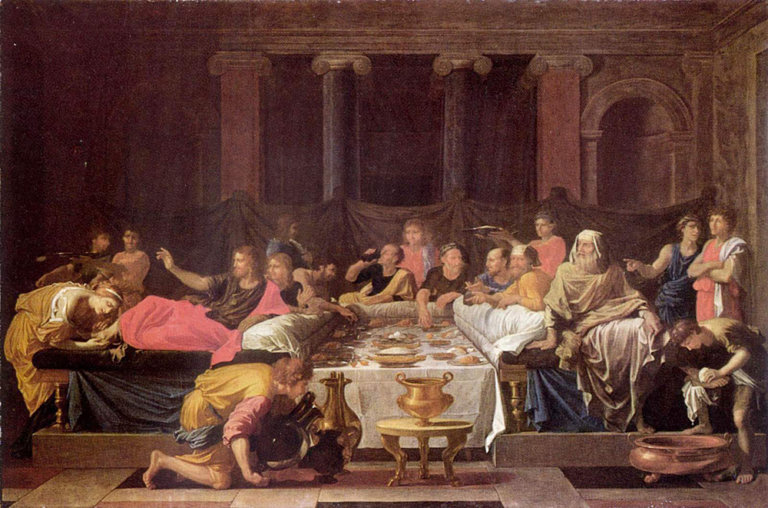
Акт понимания – один из моментов покаяния
Призыв к покаянию направлен в первую очередь к самим себе. Он возник изнутри Русской православной церкви, и он направлен в первую очередь к ней же. Но ещё и к обществу, и ко всякому, имеющему слух. Увидеть и признать свою вину – признак не слабости, а силы: об этом писал ещё Бердяев, указывая, что только человек благородный способен искать вину в себе, а не в другом. Чтобы воспринять призыв к покаянию, нужно иметь некую степень свободы от подчас незримых, но властных обстоятельств своей жизни. Однако «право на покаяние» не может быть чьей-то прерогативой, знаком «духовной исключительности» – оно даётся не по предъявлению заслуг, орденов и медалей, а по дару любви. Если ты переживаешь за своё сообщество или общество, если ты чувствуешь себя его частью, ты можешь каяться за всех и за вся. Если ты переживаешь за церковь, ты можешь приносить покаяние за её исторические грехи. Власть любви не может быть легитимизирована никем и никогда.
Теоретизировать на эту тему сложно. Я могу рассказать о своём покаянии. Ещё задолго до того, как форум «Имеющие надежду» возник в братстве, а тезисы церковного и общенационального покаяния и возрождения были сформулированы, у меня произошёл разговор с Анатолием Яковлевичем Разумовым, составителем Ленинградского мартиролога. Мы встретились в его центре «Возвращённые имена», и он рассказывал об очередном томе Ленинградского мартиролога, над которым в тот момент работал. В том должна была войти статья, посвящённая советским казням, технологиям и методам убийства людей. Он рассказывал о документах, буднично и без психологического нажима. После этой встречи я вышла в коридор библиотеки и рыдала там часа полтора, а потом очнулась немного другим человеком. Что изменилось? Внешне – мы с друзьями из Свято-Петровского православного братства взяли ответственность за Левашовское кладбище: ездить туда, убирать могилы, рассказывать о нём друзьям. Внутренне – произошёл перелом: ручейки семейной памяти, работа в архивах, изучение советской истории – взошли словами, которые только и оставалось произнести перед лицом этого ужаса: «Прости нас, Боже». Я знаю историю своего рода и знаю, на какие компромиссы шли мои родные, чтобы остаться в живых: за это я приношу и буду приносить покаяние. Для меня это молитвенный и жизненный акт. Точно так же я ценю и чувствую своим Русский Север – место, где я родилась, где, как известно, не было ни татарского ига, ни крепостного права, место особых вольных русских людей… И вот этот Север в ХХ веке принял бремя советской власти без видимого серьёзного сопротивления. Как это прошло? Почему? Я размышляю над истоками этой трагедии, пытаюсь вскрыть её причину. И акт понимания – это тоже один из моментов покаяния.
Церковь должна войти в отношения не с государством, а с обществом
Когда мы затрагиваем тему трудного прошлого в самой церкви, начинать приходится с факта, что у Русской православной церкви практически отсутствует память о существовании, не зависимом от государства. Только в 1905 году после принятия Указа «Об укреплении начал веротерпимости» заговорили о том, что православие на русской территории может оказаться в условиях конкурентной борьбы с другими христианскими церквами, или, скажем, с мусульманами, или даже с шаманистами. И всё-таки даже на Поместном соборе 1917–1918 годов речь шла о том, что церковь как культурообразующая сила России должна иметь особые права, гарантированные государством. Даже известный церковный историк, последний обер-прокурор Святейшего Синода Антон Карташёв, когда описывал модель взаимоотношений церкви и государства, говорил не об «отделении», а об «отдалении».
То, что в 1990-е годы церковь вновь стала искать опору своего существования в государстве и в его силе, говорит как об инерции церковного сознания
Но сегодня за спиной у нас есть опыт ХХ века, который устроила церкви советская власть; не замечать его уже странно. В ХХ веке Русская православная церковь существовала принципиально иначе, чем в предыдущие периоды своей истории, и плоды святой жизни являла там, где уклонялась от сотрудничества с государством, где мирно, но непримиримо отстаивала право на свой голос. Да, была другая тенденция, связанная с декларацией митрополита Сергия, но даже тогда «сергианство» понималось как компромисс, вынужденное искажение правды, а не как норма церковно-государственных отношений. Поэтому то, что в 1990-е годы церковь вновь стала искать опору своего существования в государстве и в его силе, говорит как об инерции церковного сознания, так и об отказе от духовной оценки недавнего прошлого.
Мы уже знаем, как жить иначе: реальной силой может быть не государство, а народ Божий. Другое дело, что его нужно взращивать и воспитывать, как делали многие святые пастыри ХХ века. Когда указывается, что опыт новомучеников в РПЦ не воспринят, имеется в виду не просто абстрактная «нехватка святости», но многие очень конкретные вещи, и среди них – отсутствие попечения о духовных союзах верных, способных стать опорой церкви в любых испытаниях. А таким испытанием при отказе от государственной протекции, конечно, станет разговор с обществом.

Интуиция уже названного Антона Карташёва о будущем церкви выстраивалась очень точно: он говорил, что церковь должна войти в отношения не с государством, а с обществом. Разумеется, тут же выяснится, что есть моральные и нравственные ценности, которых церковь придерживается и которые обществу не нужны. Готова ли церковь пересмотреть свои взгляды на аборты, нетрадиционные пары и так далее? Имеет ли она шанс, находясь в равноправных отношениях с обществом, озвучить свою позицию? Сегодня право быть несогласной с обществом в каких-то вопросах церкви даёт государство, но скольким приходится жертвовать ради этой протекции! Выход лишь в том, чтобы получить это же право от общества. Церковь, даже освободившись от государства, не станет обществом; так же как, по счастью, даже сливаясь с государством, никогда не становится им до конца. При этом право на собственный голос церковь обретает в первую очередь благодаря явленному на практике духовному авторитету – независимому, соответствующему Божьей правде, слову и делу.
В разговоре с обществом церкви важно опираться на свой опыт решения социальных проблем
Такой авторитет необходимо нарабатывать: он был огромен к началу 90-х, но за последние 30 лет едва ли не сошёл на нет. Говоря светским языком, в новой России был пущен по ветру «символический капитал», накопленный церковью за годы советской власти. Нам даже сложно пока оценить масштабы этой растраты. Но что можно сделать? Вновь собирать, а не расточать. Что всегда атрибутировалось церкви и чем она была сильна? Заступничество, ходатайство, голос правды: всё-таки Филипп Колычев вошел в самосознание как церкви, так и русского общества. Милость к падшим, страдающим, маргинализированным может дополнить борьбу за их права, которая ведётся общественными силами. Законность со стороны государства, представления о справедливости в обществе, милость и дерзновение перед Богом и людьми от церкви: здесь есть поле для общего действия.
Церкви нет нужды просто противостоять государству, равно как и обществу, она призвана к иному – углублению в корни проблем, которые часто не решаются прямым социальным действием. Никакой митинг и никакой сбор подписей почти ни в чём не поможет нам преодолеть советское наследие. Если вспомнить дореволюционный опыт диалога церкви и общества (в частности, в деятельности «Группы 32» – петербургских священников), то заметно, что есть два условия успешности такого общения: первое – это отсутствие ангажированности какими бы то ни было политическими силами, как государственными, так и оппозиционными. Второе – наличие в церкви собственного опыта в решении социальных проблем, христианского подхода, явленного не только в теории, но и на практике. Такой опыт решения социальных проблем очень долго нарабатывали католики, но он существовал локально и в православии: вспомним, например, миссию среди рабочих свщмч. Льва и его брата Гурия (Егоровых) в Санкт-Петербурге. Собственно, и все тезисы церковного покаяния и возрождения имеют в своей основе опыт жизни по вере и решения самых различных проблем и противоречий внутри такого сообщества, как Преображенское братство.
Церковь, входящая в отношения с обществом, а не с государством, может оказаться внешне слабее, меньше, чем та, которую мы знаем сейчас
Не будем строить иллюзий: церковь, входящая в отношения с обществом, а не с государством, может оказаться внешне слабее, меньше, чем та, которую мы знаем сейчас. Частый образ церкви в трудах современных христианских богословов – это образ отдельных островов, оазисов, ковчегов посреди «постхристианского мира». На самом деле церковь так и живёт: не тотальностью и монолитом, а потенциалом связи живого между собой. По сути, говоря о будущем церкви, мы описываем её жизнь в категориях, родственных доконстантиновской эпохе: когда в разных местах христианского мира были живые общины, имевшие общение между собой и являвшие церковную полноту внутри себя благодаря открытости действию Бога и ближнего. Даже логично, что мы будем возвращаться к этой структуре, которую сегодня бы назвали «сетевой». Вопрос, однако, в том, как будут рождаться эти новые объединения, как будут рождаться связи между ними.

Желание демократического, а не соборного устройства церкви ведёт к союзу с государством, пусть и демократическим
Несмотря на известные сходства, такое устройство церкви всё же не демократическое, а соборное. Ещё один аспект трудной памяти церкви – это опыт обновленчества, суть которого в готовности действовать внутри церкви политическими методами, добиваться каких-то целей (они могут звучать даже красиво, даже привлекательно) с помощью государства или прочих нецерковных и даже откровенно антицерковных сил. Когда люди идут на обновленческую сделку с совестью, выстраивается корреляция между той церковью, которую они созидают, и теми структурами, которые им в этом способствуют. Допустим, какой-то части народа Божьего неприятна связь фундаменталистской церкви и государства, продолжающего дело Советского Союза. Но если тип государственного устройства в стране меняется, взгляды правителей становятся более демократичными, что тогда? Сторонники «более демократического» устройства церкви рискуют оказаться в новой связке: найти себя порабощёнными логикой политического процесса, общественного мнения, конъюнктуры. И это уничтожит все благие начинания, потому что церкви в её независимости, несовпадении ни с государством, ни с обществом не будет явлено. Небезразлично, какими словами мы говорим, какие цели преследуем и какими методами готовы действовать ради их достижения. Любой разговор о соборном устройстве церкви, о её будущем должен питаться не просто заимствованными из других сфер понятиями, риторикой реформ и проч. (вот уж чем обновленцы славились, так это умением говорить правильные слова!), а реальным опытом собирания и ответственности за народ Божий, имеющимся у участников дискуссии, тем более если эта дискуссия претендует на звание церковной. Закваска обновленчества, духовного большевизма очень сильна в современных церковных кругах как фундаменталистского, так и либерального толка.
Однако непричастность церкви политике не значит, что у церкви не может быть своего голоса при оценке деятельности власти, общества и т.д. Нам прекрасно известна ещё одна задача церкви – обличения неправды. Она очень неудобна, и её стараются как-то институционализировать, загнать в приемлемые рамки, как это происходило с трудной памятью в постсоветское время: скажем, под каждым городом власть выделяла максимум один расстрельный полигон, где рекомендовалось «локализовать» всю свою альтернативную историю и несоветскую память, да ещё и отлив её в бетоне, чтобы больше не менялась, не захватывала территорию… Так и в церкви: ей сейчас даны определённые темы – например, тема новомучеников, в рамках которой можно что-то своё сказать и о советской политике, и о взглядах на современную действительность, но не более. Эта ограниченность должна преодолеваться.
Наступает свидетельская эпоха жизни церкви: выявление духовного смысла истории
Понятно, что церковь не может говорить языком политиков или даже историков о том, что с нами было или что нас ждёт. У церкви есть совершенно другой язык, в котором ей, правда, последовательно отказывают, требуя доказательств, фундированности, аккуратности, целесообразности каждого слова – всего того, в чём сильно общество, государство, но никак не она. Церковь же всегда, когда оставалась собой, говорила языком свидетельства. Свидетельство – это то «частное мнение», которое подкреплено жизнью говорящего, всем его служением и особым опытом, которые верующие люди называют Откровением. Оно звучит для тех, кто хочет слышать, и ни к чему не принуждает других.
Церковное свидетельство всегда целостно, поэтому в эпоху постмодерна, когда право на целостную концепцию истории не признаётся за кем бы то ни было, свидетельство выглядит вызывающим
Церковное свидетельство всегда целостно, поэтому в эпоху постмодерна, когда право на целостную концепцию истории не признаётся за кем бы то ни было, свидетельство выглядит вызывающим. Любой большой нарратив воспринимается как нечто тоталитарное, но Священная история – это и есть большой нарратив! Если церковь не отказывается от собственной веры, что Господь действует в мире и истории, что Он имеет о них свой промысел, она не может отказаться и от того, чтобы как-то выявлять, угадывать это действие Божье и ему споспешествовать. У христиан есть задача выявления духовного смысла истории, и от неё невозможно отказаться в угоду даже таким столь почтенным целям, как бесконфликтное общение с какими-то политическими, общественными или интеллектуальными кругами. Христиане свидетельствуют, а свидетельство всегда превышает данное нам в ощущениях.
Сложности в коммуникации церкви и общества на современном этапе понятны: «общего языка» у нас не было и не будет, – это реальность, с которой что-либо сделать нельзя хотя бы в силу исторического периода, связанного с множественностью, полифоничностью и т.д. А навык сближения горизонтов, слышания друг друга, понимания особенностей языка другого ещё не возник. Диалог в том бахтинском смысле слова, который был бы важен сейчас, является плодом экзистенциальной заинтересованности друг в друге. По-видимому, именно с этого усилия – осознания, что нам жить вместе и мы нужны друг другу – можно было бы и начать.